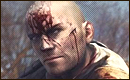— Крайне неприятно, Фил, — ни один мускул не дрогнул на лице Региса. — Крайне неприятно, когда суть сказанного тобой коверкают. Крайне неприятно, когда сказанному тобой... ох, нет, мной, разумеется!.. придают, не иначе спровоцированный завистью, грубый, катастрофически примитивный смысл. И совершенно напрасно. Совершенно напрасно, Фил. Ибо, во-первых, зависть есть ничто иное, как — немного цифр: в девяти случаях из десяти — губительная жажда привить себе в одночасье то, что годами культивировалось в других. Во-вторых, я и примитивизм суть понятия взаимоисключающие. Я, друг мой Феликс, существо сложное; я, друг мой Феликс, по-прежнему четырехсот тридцатилетний вампир. Еще немного интересных, познавательных цифр: единственное, к чему я, друг мой Феликс, могу питать аффекции, хотя бы на треть подобные зависти — мимолетность вашей, людской памяти. Той самой памяти, которая, будучи не способной в адекватные сроки обработать превосходящий некий усеченный стандарт объем информации, будучи не способной отыскать в прошлом эквивалентный посыл, за каждым непонятным словом, за каждой лишенной милой простоты конструкцией видит легионы — ни дать ни взять! — демонов, интервентов, захватчиков и тотчас же начинает самозабвенно противостоять им. А как же! Кто, как не я, защитник моей чуткой, чистой души?! У меня, Фил, души нет. За «шишкой» я не вижу «шашки», отсюда — откровение, Фил, откровение! — мне так трудно, трудно до обидного найти с вами, людьми, общий язык. Боюсь, ни латентного пахаря, ни озабоченного вопросами осеменения Марысек осеменителя Марысек, ни терзаемой муками самоидентификации романтической души я в тебе не видел, не вижу и видеть, представь себе, не предполагаю. Не говоря уже об упрощенной версии моей незабвенной вампирской личности. Ты, Фил, безбожно себе льстишь. А вот это уже великолепно, тютелька в тютельку, без ложной скромности, текстуально вписывается в твой — возблагодарим вампирий аналитический гений и грандиозный интеллект! — психологический портрет, — широко осклабился Эмиель Регис Рогеллек Терзиефф-Годфрой.
— Ну, не хотим сложностей, пойдем в низы. Ты чертовски прав, дружище. Анализ вампирским чутьем не ошибается, выводы его непоколебимы, результаты точны, вскрытые в процессе истины — неопровержимы. Истина такова — никаких аллегорий, никаких метафор, голый примитивизм: ты самовлюбленный, эгоистичный сукин сын. Самовлюбленный, эгоистичный сукин сын. И гордый до усеру. Потому что сумел увернуться. Сумел оставить ни с чем этот глупый, неповоротливый, лишенный моих аналитических способностей мир. Мир, безусловно, жаждущий превратить тебя в пахаря, но, что куда хуже: в целях поддержания стабильно высокой крестьянской популяции обязать на регулярной основе трахать Марысек. Ты жуткий гордец, Фил. Ты, Фил, не такой, как все. Любопытный факт, говорю, как доктор: не таким, как все, Марыськи даже не требуются, не такие, как все, предпочитают... — продолжая склабиться, Регис совершил в воздухе некий легко узнаваемый жест. Кулаком. Вверх-вниз. — И напоследок. Каким бы уникальным, каким бы гордящимся своей уникальностью ты ни был, говно в тебе совершенно обыкновенное, Фил. А поскольку я... фельдшер, поскольку во избежание фатальной интоксикации говно из людей положено вытряхивать... словом, выскребать сердце не гарантирую, но...
В мгновение преодолевая расстояние между собой и Феликсом, уже без улыбки, в кои-то веки Эмиель Регис, философ, гуманист, поступил совершенно не по-вампирьи. Но совершенно по-мужски.
Хорошенько вмазал под левую челюсть; не теряя инерции, повторил то же самое с правой руки.
Бил без фанатизма. Бил, потому что должен был.
Ноцицепторы взорвались. Браслет сработал безукоризненно. В глазах вспыхнуло. Собственная голова запрокинулась. Боль была чудовищной. Челюсть хрустнула. Заплясал в калейдоскопе желто-красных пятен, белесых искр этот чрезмерно озабоченный вопросами сельского хозяйства и траханья паразитарно-паразитический мир.
— И ф дружбе моей никогда не сомнефайся, — сплевывая кровью, сквозь стиснутые зубы процедил Эмиель Регис.
Дружок вскочил на ноги. Зарычал. Шерсть на загривке вздыбилась. Дружок был в растерянности. Дружок не понимал: кого от кого оттаскивать, кого хватать за задницу, а кого безжалостно грызть.