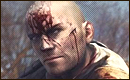— Псарня? Что, шавок в портках и при параде тебе уже мало? — изобразил почти искреннее изумление Его Величество.
А больше – ни слова. Потому что слов на сегодня достаточно.
Потому что для упражнений в искусстве оратора держал Ваттье, которому, между прочим, платил жалование, и потому что обременять себя делами государства здесь, под суровыми взглядами прежних символов монархической власти, было бы… абсолютно логично, но чисто по-человечески – странно.
Империя подождет. Трон подождет. Он ведь ждал, он, Йож из Эрленвальда? Ждал.
Вот и она, Великая и Прекрасная, не развалится – минут двадцать, может быть, полчаса.
Потому что губы, потому что грудь, бедра, талия, и, безусловно, невероятно невозможные запахи сирени и крыжовника.
Невероятно невозможные – это буквально.
Сам по себе крыжовник не пахнет. Он проверял. Это был ее запах, только ее запах, черно-белой Йеннифэр. Запах тайны.
«Ну до чего ты все-таки дерзкая, госпожа Йеннифэр из Венгерберга, — думал Белое Пламя. — До чего властная…».
И храбрая.
Кажется, еще вчера между ними была пропасть; пропасть и узенький мостик из тонкого льда, а сегодня — что же это, черт возьми, что это? сиюминутное удовольствие? государственная измена? свобода? — оба пляшут и пляшут, как проклятые, у самого жерла вулкана.
Будь Паветта хоть каплю на нее похожа…
Он ждал какого-нибудь знака. Быть может, летящих задом наперед бакланов. Или двойного солнца.
И разочаровался, сильно разочаровался, когда знамением конца как всегда оказалась Паветта.
— Дани, — у нее дрожали губы.
Почти стемнело.
— Дани, прошу, ответь мне.
— Ну что? Что? Тошнит? Замерзла?
— Нет, я…
— Ты, ты, ты…что ты? Дурная, беспомощная, избалованная девка! — рыкнул Дани. Было, в общем-то, не холодно. Зюйд-вест скрипел новенькими мачтами фрегата. — Зачем ты вообще за меня вышла? Не понимаю, правда, не понимаю. Но могу догадываться: душевное родство, верно? Решила, мол-де, два урода прямо-таки самой судьбой, самим, курва, фатумом обречены на таинство брака?
— Урода… — а теперь у нее блестели глаза.
— О, нет, не думай, я не о твоем… даре. Я о твоем паскудном характере. Ты мне не веришь, Паветта, ТЫ МНЕ НЕ ВЕРИШЬ!
«Это мой голос? Это мой голос. Невероятно».
— Ты решил украсть ее. Решил украсть ее у меня, — стиснула кулачки Паветта.
«Не похожа, — скрипел зубами Дани. — Сколько бы ты не старалась, дорогая моя женушка, ты – не Львица, не Калантэ из Цинтры, и пугать меня бессмысленно».
— Заткнись. Пожалуйста.
— Ты решил ее украсть. У меня. Мою дочь. Мое дитя. Неужели, Дани, неужели…
— ЧТО?
— С первого дня… это все… была неправда?
— А если и так? — пожал плечами Дани, отворачиваясь. — Какая к чертям собачьим разница? И вообще, в постели ты, помнится, не жаловалась. Ни разу… милая моя, нежная моя… паралитичка.
«А это что? Я рассмеялся? Неужто я рассмеялся? Дьявольщина. Дьявольщина какая-то».
— Не смей, Дани. Никогда не смей ТАК со мной разговаривать! Никогда! — взвизгнула Паветта; тонкими, бледными пальцами вцепилась в рукав. — Почему ты не смотришь мне в глаза? Почему ты не смотришь? Трус! Трус! ТРУС! ПРЕДАТЕЛЬ!
В сущности, он даже не помнил, что именно сделал — оттолкнул или все-таки ударил. А когда очнулся, было уже поздно.
Падая за борт, захлебываясь, задыхаясь, она кричала. Жутко кричала, страшно кричала, душераздирающе.
И очень, очень долго.
— Мф, — выдохнул Его Величество, прижимая к себе ее, черно-белую Йеннифэр из Венгерберга.
Голова кружилась. От соли. Морской соли.
А так хотелось — дьявол, холера, Великое Солнце, курва мать, — чтобы магия не рассеивалась. Магия сирени и крыжовника.
Двадцать минут, к сожалению, это чертовски мало.